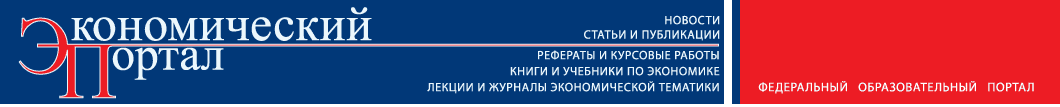
Популярные статьи
- Государственно-частное партнерство: теория и практика
- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры
- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию
- Совершенствование оценки эффективности инвестиций
- Качество и уровень жизни населения
- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов
- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран
- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам
- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов
- Теория экономических механизмов
- Перспективы социально-экономического развития России
- Особенности нового этапа инновационного развития России
- Экономический кризис в России: экспертный взгляд
- Налоговые риски
Популярные курсовые
- Учет нематериальных активов
- Потребительское кредитование
- Бухгалтерский учет - Курсовые работы
- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы
- Денежная система и денежный рынок
- Долгосрочное планирование на предприятии
- Диагностика кризисного состояния предприятия
- Интеграционные процессы в современном мире
- Доходы организации: их виды и классификация
- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков
- Международные рынки капиталов
- Многофакторный анализ производительности труда
- Непрерывный трудовой стаж
- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Навигация по сайту
О научной обоснованности научной политики в РФ |
|
Тамбовцев В. Л. Наука — точнее, результаты научных исследований — ощутимо повлияла и продолжает влиять на экономику1 и социальные отношения экономически развитых стран. В свою очередь, динамика научных исследований во многом зависит от политики, которую по отношению к науке проводят их правительства. Правительство как один из наиболее мощных (ресурсообеспеченных) экономических субъектов современных стран, располагающий одновременно правами устанавливать правила поведения других экономических субъектов, может проводить политику, как способствующую, так и препятствующую осуществлению научных исследований. Поскольку такая политика разрабатывается и проводится в жизнь ограниченно рациональными субъектами, она может быть не научно обоснованной, содержать ошибочные положения и приводить к результатам, далеким от желаемых (или декларируемых). Задача этой статьи — изучить научную обоснованность государственной научной политики (ГНП), проводимой в последние годы в РФ, и выявить ее компоненты, которые могут оказать значительное негативное влияние на развитие отечественной науки и, тем самым, экономики нашей страны. Для решения этой задачи мы проанализируем сначала понятие научной политики, затем — критерии ее научной обоснованности и в заключительной части статьи применим их к ряду компонентов актуальной российской научной политики. Научная политикаПонятие научной политики (НП) в настоящее время имеет различные толкования. Более того, в этой области используется несколько терминов: научная, исследовательская, научно-техническая политика, между которыми трудно провести строгие границы. Так, Л. Энрикес и Ф. Ларедо определяют НП как «мобилизацию национальных исследовательских и технологических способностей и ресурсов для обеспечения экономического роста страны» (Henriques, Laredo, 2013. P. 801). Б. Боузмен и Д. Сейревиц заявляют: «Когда мы используем термин „научная политика", мы относим его ко всем усилиям обеспечить приложения технического знания» (Bozeman, Sarewitz, 2005. P. 121). Б. Дерн и К. Стоуни предлагают более четкое понимание НП: «Утверждения о целях и намерениях по отношению к исследованиям, науке и технике и инновациям... артикулированные (enunciated) и обсужденные... правительством различными способами на мириадах дискуссионных площадок. Такая политика использует все ключевые инструменты налогообложения, расходов, регулирования и убеждения» (Doern, Stoney, 2009. P. 8; цит. по: Martin, 2016. P. 158). А. С. Меткалф в работе, специально посвященной теоретическому осмыслению исследовательской политики, полагает, что она «может быть определена как множество политик на разных уровнях, которые касаются миссии, поддержки, менеджмента и осуществления исследований» (Metcalfe, 2008. Р. 241). По его мнению, понятие НП «в большей степени описывает множество политик, которые управляют не только университетской наукой, но также национальными лабораториями, независимыми учеными, отраслевой наукой и международной кооперацией помимо университетских консорциумов» (Metcalfe, 2008. Р. 254). И. Дежина определяет НП как «государственную политику, нацеленную на финансирование, проведение и распространение результатов научных исследований» (Dezhina, 2017. Р. 8). С нашей точки зрения, наибольшим потенциалом развития обладает понимание НП, предложенное Дерном и Стоуни. Действительно, следуя работам: Майминас и др., 1983. С. 589; 1986. С. 401; Тамбовцев, 1986. С. 3, мы определяем политику как совокупность намерений некоторого субъекта относительно состояния и/или динамики определенной социально-экономической системы (СЭС) и предпочтительных (выбранных им) способов реализации этих намерений. Соответственно научная политика — это совокупность намерений некоторого субъекта относительно будущего состояния и динамики науки (как социально-экономической системы) и выбранных им средств (инструментов политики), применение которых, по его мнению, обеспечит реализацию этих намерений. Наука как СЭС представляет собой совокупность взаимодействующих индивидов, их групп и организаций, производящих разнообразные виды научных знаний. Индивиды и их различные объединения (формальные и неформальные организации), осуществляя широкий круг коммуникационных и иных взаимодействий, производят научные знания. Последние отличаются от иных видов знания как способами своего производства, поскольку возникают вследствие применения научных методов, так и своими характеристиками, важнейшей из которых выступает воспроизводимость, или подтверждаемость: разные индивиды, применив схожие методы исследования к некоторому объекту, получают одинаковые результаты. Производство научных знаний сопряжено с издержками, связанными как с обеспечением жизнедеятельности исследователей, так и с процессами применения научных методов к изучаемым объектам: обеспечением доступа к ранее полученным научным знаниям, проведением экспериментов, обработкой их результатов, публикацией и т. д. Эти издержки предполагают наличие финансирования, и вопрос о его источниках — один из центральных для успешного функционирования науки как СЭС2. Неоклассическая экономическая теория решала этот вопрос достаточно просто: научные знания объявлялись общественным благом, вследствие чего государственное финансирование науки представлялось очевидным (Nelson, 1959; Arrow, 1962). Такой подход не давал, разумеется, количественных оценок «оптимального» уровня финансирования науки (сама постановка вопроса о «недопроизводстве» общественных благ представляется спорной), но ясно указывал на источник финансирования. Однако М. Каллон (Callon, 1994) продемонстрировал несостоятельность упомянутого подхода: результаты научных исследований всегда были и остаются «укорененными» внутри сетей исследователей и лишь чисто формально доступны всем: их понимание требует от «человека с улицы» значительных затрат времени и усилий. Тем самым аргумент о пренебрежимо малых издержках копирования знаний основан на терминологической неточности: пренебрежимо малы предельные издержки копирования не знаний, а знаков, содержание которых может стать знанием, однако при широком разбросе издержек, которые могут варьировать от практически нулевых для одних индивидов (специалистов) до запретительно высоких для других (например, людей, не понимающих скопированных знаков). «Новая» экономическая теория науки (Dasgupta, David, 1994), исходя из понимания своего объекта как СЭС, сконцентрировалась на вопросах соотношения вознаграждений и стимулов исследователей, прежде всего ценности приоритета в открытии, создании новой модели и т. п., с одной стороны, и продуктивности исследователей — с другой, а также их связи с распределением ресурсов (Stephan, 1996): у первооткрывателей не только повышается научный престиж, но и растет вероятность получить материальную поддержку последующих исследований. Концентрация усилий исследователей науки на микроуровне не означает, что проблематика финансирования науки как СЭС утратила свою актуальность. Напротив, эти вопросы стали даже более актуальны в последние годы, когда правительства многих стран взяли курс на расширение самофинансирования научных организаций и усиление связей науки и бизнеса, то есть использование механизма рынка вместе (а иногда вместо) с использованием механизма профессиональной оценки (peer review). Изучение вклада науки в экономическое и социальное развитие составило весомую часть ее экономического анализа. Во-первых, оно показало повсеместную (по отраслям науки) временную отдаленность3 реализации такого вклада: «Результаты научных исследований, будучи новым знанием, были бы серьезно недооцененными, если бы оценивались непосредственно рынками совершенной конкуренции» (David, 1998. Р. 36). Для практического проявления их действительной ценности с этими результатами должны быть проведены многочисленные дополнительные исследовательские и производственные действия, благодаря которым и можно понять, какое влияние эти результаты оказали на технологическое, экономическое и социальное развитие. Подчеркнем, что чем более они открыты, чем больше людей может ознакомиться и работать с ними, тем выше вероятность обнаружить способы их практически полезного применения. Тем самым пытаться оценить результаты исследований «по итогам года» — все равно что пытаться оценить урожай на следующий день после посева семян: сделать это, конечно, можно, но точность оценки будет невысокой. Во-вторых, были выявлены многочисленные каналы влияния науки на экономическое и социальное развитие:
Легко видеть, что работа этих каналов предполагает участие многих индивидов и организаций, действующих за пределами СЭС науки. Причем масштабы конечного влияния исследовательских процессов на социально-экономическое развитие определяются как содержанием результатов производства научных знаний, так и усилиями множества субъектов вне этого производства. Эмпирические оценки связи фундаментальных исследований и инноваций (произведенных и «признанных рынком» новых продуктов и технологий) показали, что, несмотря на ее нелинейность, она, безусловно, существует (Mansfield, 1991; Cohen et al., 2002; Balconi et al., 2010; Bellucci, Pennacchio, 2016; Ahmadpoor, Jones, 2017). Однако наличие такой связи не говорит о том, какими должны быть источники финансирования «чистой» науки. Эмпирические свидетельства того, взаимозамещающие или взаимоисключающие фактически государственные и частные инвестиции в науку и прикладные исследования, неоднозначны (David et al., 2000; Toole, 2007; Gonzalez, Pazo, 2008; Czarnitzki, Lopes Bento, 2012; Zuniga-Vicente et al., 2014), хотя наиболее поздние работы говорят скорее в пользу государственных инвестиций вследствие их ощутимого стимулирующего воздействия на частные (Becker, 2015; Aristei et al., 2017; Carboni, 2017). Одновременно отметим наличие исследований, свидетельствующих в пользу негативного влияния требований непосредственной коммерциализации академических (университетских) исследований на проведение поисковых (open-ended) разработок, не имеющих прямой прикладной направленности (Larsen, 2011; Schraagen, 2013; Quaglione et al., 2015). Объяснение такого эффекта очевидно: ограниченный ресурс — время и усилия как отдельных ученых, так и исследовательских центров — распределяется в пользу видов деятельности, которые обеспечивают большую финансовую устойчивость (Siota, 2018). Если упомянутые требования будут предъявляться достаточно длительное время, то экономика (как отдельных стран, так и мировая в целом) в долгосрочной перспективе столкнется с продолжительной «инновационной паузой». Что касается теоретических аргументов в пользу того или иного источника финансирования (фундаментальных) научных исследований, на сегодня здесь четкий и обоснованный ответ отсутствует. Научные знания, как было показано М. Каллоном почти четверть века назад, не общественное благо, в силу чего аргумент о необходимости государственной коррекции «провалов» рынка несостоятелен. У. Бутос и Т. Макквейд вообще полагают, что «государственное финансирование влияет на науку так же, как контроль цен, субсидии, дешевый кредит и централизованное планирование влияют на рынки» (Butos, McQuade, 2006. P. 205), подчеркивая не нейтральность источников финансирования науки, поскольку централизованное финансирование чревато большими рисками дестабилизации (Butos, McQuade, 2012). В то же время модельный анализ, основанный на ряде естественных предпосылок, показывает, что существует оптимальный уровень государственного финансирования фундаментальных исследований, максимизирующий общественное благосостояние в долгосрочной перспективе, который существенно выше фактических уровней в странах ОЭСР (Prettner, Werner, 2016). Этот разрыв объясняется тем, что в краткосрочном периоде финансирование науки на оптимальном уровне снизило бы общественное благосостояние, чего, конечно, избираемые политики не могут себе позволить. Отметим, что ГНП — феномен сравнительно недавнего времени, по крайней мере в демократических странах5. Правительства последних активно влияли на научные исследования во время Второй мировой войны, на протяжении двух—трех десятилетий после окончания которой в отношениях государства и науки фактически возобладал подход М. Поланьи, который утверждал, что «попытка направить научные исследования к цели, отличной от их собственных, — это попытка отклонить их от научного прогресса» (Polanyi, 1962. Р. 62). Однако в последние 30 лет ситуация во взаимоотношениях правительств и научных организаций изменилась: многие правительства стали требовать непосредственного участия науки в решении экономических и социальных проблем, настаивая на активизации усилий университетов и научных институтов по коммерциализации результатов их работы, с одной стороны, и вводя различные системы оценки этих результатов, — с другой (Tuunainen, 2013. Р. 45-46). Вторую тенденцию публично оправдывали необходимостью усилить подотчетность науки обществу. Такое требование представляется неоспоримым с позиций развития демократии, однако практика его реализации вызывает сомнения (см. заключительный раздел статьи). Ряд исследователей (Gibbons et al., 1994), интерпретируя эти перемены, охарактеризовали их как формирование Режима-2 (Mode-2) производства научных знаний, в рамках которого, по их мнению, происходит слияние (fusion) науки с другими формами социальных практик, такими как производственная деятельность или решение социальных проблем. Схожий период, как отметил П. Дэвид (David, 2008; см. также: Martin, 2003), уже был в истории науки, когда для проведения фундаментальных исследований ученые были вынуждены искать деньги у феодалов (Средние века, начало Нового времени), а позже у промышленников (с конца XIX в. по 1940-е годы). Тогда, однако, никто не делал скоропалительных выводов о слиянии науки с государством и промышленностью, поскольку каждая из якобы «слившихся в едином порыве» СЭС продолжала заниматься своим делом, используя результаты действий других СЭС, то есть совершая двух- и трехсторонние обмены этими результатами. Но ведь из того, что продавец и покупатель обменивают товар на деньги, никто не делает вывод, что они сливаются воедино (как полагают М. Гиббоне и др.). Поэтому более реалистичным представляется иное, более приземленное объяснение. Как следует из анализа изменений в законодательстве США в период 1970-2002 гг., усиление практической направленности НИР было не чем иным, как стремлением осуществить — в связи с завершением «холодной войны» — конверсию научно-исследовательского блока военно-промышленного комплекса, переориентировать его на нужды всей экономики, а не только обороны, что, в свою очередь, оправдывалось необходимостью повысить национальную конкуренто способность (Slaughter, Rhoades, 1996). Схожие процессы происходили в Великобритании и других странах ОЭСР (OECD, 2000). Однако ориентация науки посредством ГНП на обеспечение экономических выгод стране не означает автоматически, что исследования в массовом порядке должны приобрести исключительно прикладной характер или что практическими приложениями полученных результатов должны заниматься сами ученые. Она лишь означает, что вопросам практического применения результатов всей совокупности исследований должно уделяться больше внимания. Однако кто именно должен уделять это возрастающее внимание? По логике правительства Великобритании (UK Government, 1993) и многих других правительств, этим в первую очередь должны заниматься те же субъекты, которые осуществляют исследования, то есть университеты, лаборатории, научно-исследовательские институты и т. п. Такая точка зрения нуждается в обосновании, поскольку преимуществ разделения труда, как известно, никто не отменял... Научная обоснованность политикиВ литературе представлены три подхода к вопросу о научной обоснованности политики. Один связан с понятием доказательной политики (ДП, evidence-based policy), которое стало активно применять правительство Т. Блэра в Великобритании (Wells, 2007); другой — с концепцией «науки научной политики» (science of science policy, Marburger, 2005); третий, возникший значительно позже, исходит из критики концепции ДП и заключается в «рассказывании количественных историй» (quantitative story-telling) для обеспечения робастности политики (Saltelli, Giampietro, 2016; 2017). Первый подход отражает попытку рационализовать процесс формирования политики (Newman, 2017), обосновать приоритетность одного из нескольких потоков информации, а именно научной, среди всех, которые воспринимают и учитывают политики в процессах принятия решений (Cairney, Jones, 2016). Представления о необходимости ДП пришли из медицины, где сторонники этого подхода связывали доказательность положительного влияния того или иного метода лечения со специальной статистической техникой обоснования его действенности — рандомизированным испытанием (randomized trials), которому отдавалось предпочтение перед другими способами оценки качества метода (Reilly, 2004). В общем случае, разумеется, такое узкое понимание доказательности вряд ли обязательно, поэтому в качестве доказательства рассматриваются факты, которые «могут быть независимо наблюдаемы и верифицируемы и для которых существует широкий консенсус относительно их содержания (если и не их интерпретации)» (Davies et al., 2000. P. 2). Характеризуя подход ДП в целом, можно заключить, что, несмотря на его критику (Head, 2013; Newman, 2017; Young, 2011), он вполне корректно связывает научную обоснованность политики с научными фактами. Однако «синкретическое» понимание политики, неразграничивающее компоненты ее намерений и средств (инструментов), вынуждает сторонников этого подхода распространять доказательства и на намерения, что уже некорректно: последние вырабатываются, исходя из взаимодействия интересов различных социальных групп, их политического «веса», текущего расклада политических сил и т. п., где для научных доказательств нет места. Если бы подход ДП ограничился отбором инструментов политики, то почти вся его критика просто исчезла бы. Второй подход к пониманию научной обоснованности политики, предложенный Дж. Марбургером специально для НП, фактически соответствует подходу Поланьи (см. выше): «Наука движется вперед со своей собственной мощной динамикой, и это создает средства для решения многих трудных проблем общества... Федеральная поддержка науки должна быть направлена, во-первых, на обеспечение устойчивости этой динамики и, во-вторых, на использование создаваемых возможностей для обнаружения и улучшения условий человеческого существования. Это то, что я называю „научно обоснованной" научной политикой. Она отличается от того, что можно назвать „проблемно-ориентированной" (issues based) политикой, поскольку она осознает, что открытие и создание совершенно новых технологий вряд ли возникнут из предписаний найти решение отдельных социальных проблем» (Marburger, 2003. Р. 8—9). Что касается принципов определения направлений НП, Марбургер формулирует свою позицию следующим образом: «Ученые все время делают суждения относительно перспективных (promising) направлений исследований. Ученые выбирают направления, которым стоит следовать и которые они отбрасывают как непродуктивные. Остается лишь один путь, который они считают продуктивным и релевантным их карьере. Некоторые делают такой выбор лучше, чем другие. Для крупнейшего в мире спонсора исследований — правительства США — имеет смысл делать подобный выбор так же мудро, как наиболее продуктивные ученые» (Marburger, 2003. Р. 11). Легко видеть, что Марбургер (бывший в то время советником Дж. Буша-мл. по науке), трактовал научно обоснованную научную политику совсем не так, как в других странах ОЭСР. Научная обоснованность НП для него — это соответствие последней объективным закономерностям развития науки как СЭС, в то время как общим стало требование к ученым «оправдывать их заявки на ресурсы общества демонстрацией того, где и как они релевантны решению социальных (public) проблем» (Demeritt, 2000. Р. 309). Такое требование было бы вполне оправданным, если бы социальные проблемы имели единственное решение. Между тем большинство из них имеет ряд взаимопротиворечащих решений, отдающих предпочтение той или иной стороне конфликта: ведь любая социальная проблема — это всегда противостояние интересов разных общественных групп. Поэтому проблема такого подхода в том, кто — представители какой из противостоящих групп — оценивает релевантность предлагаемого исследования. Прямая увязка финансирования НИР с решением социальных проблем содержит опасность того, что исследования будут изначально ориентированы на обоснование способов их решения, которые отвечают интересам стороны, обеспечивающей финансирование. Эта опасность наиболее серьезна в сфере общественных наук. Она резко снижается, если в стране существуют сопоставимые альтернативные источники финансирования исследований, соответствующие составу противостоящих групп, что подрывает монополию одной стороны. Проанализируем третий подход к пониманию научной обоснованности политики. Его инициаторы А. Салтелли и М. Джампьетро, охарактеризовав подход ДП как чрезмерно упрощающий реальные социальные проблемы и преувеличивающий роль количественных методов в подтверждении корректности обосновываемых решений, предлагают альтернативный подход, согласно которому главные усилия должны прилагаться на «доаналитической, доколичественной фазе анализа для картирования социально робастного универса возможных фреймов, которые представляют линзы, через которые воспринимается проблема» (Saltelli, Giampietro, 2017. P. 62). Задача подобного картирования — отбросить фреймы, которые нарушают такие ограничения, как «осуществимость (совместимость с внешними ограничениями), живучесть (совместимость с внутренними ограничениями) и желательность (совместимость с нормативными ценностями, принятыми в данном обществе)» (Saltelli, Giampietro, 2017. P. 68). Тем самым отбор фреймов, определяющих репрезентацию проблем, предлагается осуществлять не посредством подтверждения их релевантности, а путем фальсификации, то есть выявления нерелевантности. Такой отбор должен делать широкий круг участников, что «снимает» противоречия с демократическим характером политического процесса и обеспечивает «социальную робастность» фреймов, совместимых с ограничениями на политические решения. Безусловно, позитивной стороной этого подхода выступает упор на «фильтры», то есть выведение за скобки вариантов видения политических проблем, которые не соответствуют известным ограничениям6. Вместе с тем если первые два ограничения — осуществимость и живучесть — вполне обоснованны, то наличие третьего вызывает сомнения в реализуемости всего подхода. Как быть, если общество включает группы, характеризующиеся несовместимыми ценностями? В этом случае ни один фрейм не сможет пройти предложенные фильтры (при достаточно широком представительстве групп в рамках процедуры картирования). Но наличие таких групп — неотъемлемая характеристика социальных (не технических) политических проблем. Анализируемое понимание научной обоснованности политики, впрочем, находится лишь на начальной стадии развития, так что, возможно, его сторонники предложат ответ на поставленный вопрос. Проведенный обзор подходов позволяет перейти к пониманию научной обоснованности политики, базирующемуся на предложенной выше трактовке этого термина. Сам факт формулирования некоторым субъектом намерений сохранить либо изменить состояние СЭС говорит о том, что эта система в представлениях субъекта оказывает (или может оказать) влияние на уровень его ожидаемой полезности7. Другими словами, у субъекта имеется некоторая явная или неявная модель, связывающая состояние объекта политики (СЭС) и уровень его полезности. Далее, определяя для себя политику по отношению к какой-либо СЭС — экономике, социальной сфере, молодежи, художественной культуре, демографии и т. д., — субъект политики не может не предполагать, что выбранные им способы действий обеспечат осуществление его намерений, его вйдение желательного состояния и/или динамики этой системы. Иными словами, у него не может не быть явной или неявной модели связи предпочтительных действий и их последствий — порождаемых изменений в объекте политики. Реализация целей политики (намерений субъекта), то есть действия, которые он предпринимает для их реализации, могут — в силу как известных, так и неизвестных связей и зависимостей в обществе, — иметь последствия, выходящие за границы объекта политики. Такие последствия могут быть как ожидаемыми (намеренными), так и неожиданными (ненамеренными) для субъекта политики. Кроме того, с точки зрения последнего они могут быть положительными или отрицательными. Оценки этих последствий другими субъектами в данном обществе могут, разумеется, кардинально отличаться от оценок субъекта политики. Отметим также, что ожидаемость/ неожиданность последствий для него могут не совпадать с подобными характеристиками для других субъектов в силу разной ограниченности их рациональности. Наконец, отметим следующий момент: формулируя свое вйдение будущего желаемого состояния и/или динамики объекта политики, субъект должен быть уверен в том, что это состояние (или динамика) может быть достигнуто посредством предпочитаемых им видов действий. Разумеется, такая уверенность вовсе не обязательна, если речь идет о декларируемых целях, в то время как действительные цели могут от них серьезно отличаться. Но тогда она необходима по отношению к действительным намерениям политики. Можно выделить три группы связей, которые могут (и должны) исследоваться эмпирически: 1) связи между изменениями в объектах политики; 2) связи между мерами политики (действиями) и изменениями в ее объекте; 3) связи между выбранными мерами политики и ее целями. Первая группа позволяет оценить последствия данной политики в случае ее последовательного проведения для других СЭС, вторая — адекватны ли выбранные меры целям политики, третья — достижимы ли цели политики вообще. Очевидно, все эти типы связей, известные политику или предполагаемые им, могут оказаться неверными (не существующими в действительности), то есть быть ложными убеждениями. Исходя из этого, можно сказать, что некоторая политика научно обоснована, если на момент ее формулирования не существует научно доказанных фактов (связей и зависимостей), свидетельствующих или 1) о принципиальной недостижимости ее целей, или 2) о неадекватности выбранных средств (о недостижимости выбранных целей с помощью выбранных средств), или 3) о том и о другом одновременно. Намерения (цели) политики можно считать научно обоснованными, если они:
Они могут быть научно обоснованными или в каком-то одном, или в большем числе аспектов. Средства политики можно считать научно обоснованными, если они:
Как и в случае намерений, аспекты научной обоснованности средств не зависят друг от друга. Научно доказанные факты, на которые опирается научно обоснованная политика, есть в научной литературе (статьях, книгах, отчетах). Это не означает, разумеется, что они известны субъекту политики. Более того, даже в случае известности он может их игнорировать, если они противоречат его уже сложившемуся мнению о «правильной политике» по отношению к некоторой СЭС (Lewandowsky, Oberauer, 2016). Поэтому разработка научно обоснованной политики предполагает привлечение широкого круга источников научных знаний, включая противостоящие научные направления и школы, проведение дискуссий относительно фактов, противоречащих друг другу. Ведь доказанность факта (не его интерпретации!) можно выявить в ходе научного анализа процесса его доказательства, а не по решению политика, выбравшего в качестве доказательства факты, которые ему удобны (выгодны). Часто за аргумент против широкого обращения к научным данным выдается ограниченность времени на принятие многих решений (узость «окна возможностей»). Однако это не вполне корректно. Конечно, существуют административные решения, которые нужно принимать быстро. Однако вряд ли решения относительно политики развития масштабных СЭС, из которых будут следовать различные стратегии, относятся к таковым: динамика СЭС обычно достаточно устойчива, и откладывание решения на месяцы и даже годы не сможет резко повлиять на сложившиеся тренды. Подчеркнем, что научно обоснованная политика — не то же самое, что «хорошая» политика, приносящая благо большинству членов общества: цели первой могут быть таковы, что их достижение нанесет ущерб значительному числу граждан, принося выгоду только субъекту политики или какой-то небольшой группе граждан. Это характерная черта так называемых хищнических государств (см., например: Vahabi, 2016). О научной обоснованности некоторых элементов научной политики РФПрограмма фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 гг.)8, отражающая научную политику РФ, утверждает: «Сегодня основной задачей науки является научное обеспечение социально-экономического развития страны. Только создав конкурентоспособную экономику, возможно добиться и конкурентоспособности науки. При этом особое внимание должно уделяться обеспечению национальной безопасности страны. В связи с этим тезис о повышении конкурентоспособности науки должен рассматриваться исключительно в этом контексте». Целью этой Программы (намерениями политики) выступает «формирование с учетом институциональных преобразований сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора фундаментальных исследований, обеспечение расширенного воспроизводства знаний... ускорение интеграционных процессов российской науки и образования, повышение эффективности исследований и их использования для разработки перспективных технологий, необходимых для реализации стратегических задач социально-экономического развития страны». Эти цели, безусловно, научно обоснованы9 в аспектах (а) и (в), однако их обоснованность в аспекте (б), исходя из текста Программы, оценить затруднительно, поскольку средства (инструменты) научной политики в нем в явном виде не зафиксированы. Только наблюдения за действиями различных ведомств позволяют выявить некоторые типы средств, используемых для реализации явно сформулированных намерений. Ограниченные размеры статьи не позволяют проанализировать все разнообразие применяемых инструментов, поэтому мы остановимся на некоторых из них. Усиление подотчетности. Одним из намерений НП, которую стали проводить в большинстве стран ОЭСР по окончании «холодной войны», было стремление установить «демократический контроль над технологиями и институтами, которые глубоко влияют на повседневную жизнь» (Sarewitz, 1997. Р. ЗО)10. Как отмечает М. Боуэнс, подотчетность обществу (public accountability) — «слово, вызывающее воодушевление (hurrah-word), подобно словам „обучение", „ответственность" или „солидарность", относительно которых никто не будет против» (Bovens, 2005. Р. 182). Подотчетность трактуется им как «социальное отношение, в котором актор чувствует обязанность объяснить и оправдать свое поведение некоторому значимому другому» (Bovens, 2005. Р. 184). Ответственность существует в различных формах и реализуется с помощью разнообразных механизмов (Lindberg, 2013), порождая некоторые устойчивые убеждения, далеко не всегда соответствующие реальности (Dubnick, 2005. Р. 376—377). Одно из них тесно связывает подотчетность и эффективность. Однако, как показывает и теоретический, и эмпирический анализ (Erkkilä, 2007; Ossege, 2012; Christensen, Laegreid, 2015), такая связь существует не всегда, притом она не всегда положительная. Рассмотрим отношение подотчетности между наукой и обществом. Прежде всего подчеркнем, что и тот и другой актор — не индивид, в силу чего сразу возникает вопрос: кто кому подотчетен (или должен стать более подотчетным)? Без ответа на него невозможно говорить о действенности усиления подотчетности, ее влиянии на эффективность науки. По мнению Дж. Р. Франсиса, усиление внимания к вопросам подотчетности и ответственности науки стало следствием расширения «неправильных» практик поведения ученых (подтасовка и фальсификация данных, сознательное искажение интерпретации результатов, плагиат и т. п.). Поскольку такие практики неотделимы от внутреннего устройства самой науки, их надо связывать не только с отдельными исследователями, но и с «социальными единицами, которые определяют и контролируют структуру научных практик: лабораториями, НИИ, научными обществами и журналами, а также с финансирующими агентствами» (Francis, 1989. Р. 5). С такой постановкой вопроса можно согласиться в части определения круга подотчетных «единиц»11, однако подотчетность науки трактуется шире, включая «достаточность» позитивных практик и их результатов для развития экономики и решения социальных проблем, что подводит к вопросу о том, кому должна быть «более подотчетна» наука? В «мире нирваны» Г. Демсеца (Demsetz, 1969) и в политической демагогии ответ на этот вопрос прост: наука подотчетна обществу. На практике это, однако, означает не более чем подотчетность правительственным бюрократическим организациям (финансирующим агентствам) для исследовательских единиц и отдельных ученых, а также подотчетность правительству для финансирующих агентств. Правительства, в свою очередь, подотчетны (в демократических странах) избирателям, которые в основном одобряют и поддерживают государственные расходы на науку (Besley, 2013; Нефедова, Фурсов, 2016), причем даже в период экономического кризиса (Sanz-Menendez, Van Ryzin, 2015). Иными словами, «общество» — в форме общественного мнения — как ранее, так и в настоящее время признает науку и полагает производство научных знаний полезным для себя. Откуда же тогда проистекает нужда в повышении подотчетности, о которой говорят правительства? Как представляется, политики и бюрократы сочувственно отнеслись к призыву усилить подотчетность науки, поскольку увидели в нем возможность установить контроль над еще одной СЭС, которая до того развивалась относительно автономно (если исключить ее зависимость от государственного финансирования). «Усиление подотчетности обществу» в его практическом исполнении имеет как минимум два варианта. Во-первых, правительства могут пытаться непосредственно устанавливать приоритетные задачи научным организациям. Однако, чтобы это сделать лучше, чем сами ученые, чиновники должны обладать специальными знаниями относительно перспектив развития и науки, и технологий, и экономики, причем не только своей страны, но и стран, с которыми в принципе может конкурировать данная страна. Есть большие сомнения в том, что такие «интеллектуальные супермены» существуют — как вообще, так и среди представителей правительств. Показателен опыт «стратегической переориентации» науки в Швеции, где, начиная с 1994 г., с соответствующей целью были созданы специальные государственно-частные агентства. Деятельность их руководителей, однако, свелась к «выбиванию» из правительства дополнительных средств, поскольку «шведские реформаторы исследований имели смутное представление о том, как финансирование науки может быть связано с экономической конкурентоспособностью»12 (Benner, Sörlin, 2007. P. 46). Соответственно они не смогли самостоятельно определить «стратегические» направления развития науки, а приглашение для этого ведущих ученых страны вернуло процессы финансирования «на круги своя», что было для работы шведских ученых в конечном счете много лучше, чем если бы их заставили «переключиться» на неверно определенные новые задачи. Во-вторых, правительственные структуры, осознав нереалистичность первой опции и желая выглядеть ответственно перед налогоплательщиками, могут вводить понятные неспециалистам, но не отражающие содержание научных достижений «объективные» целевые показатели, якобы представляющие масштабы производства научных знаний и их качество. Именно этим путем пошли правительства большинства стран ОЭСР и их последователи в других странах. Все подобные показатели так или иначе базируются на количестве публикаций и патентов (в расчете на одного исследователя или денежную единицу расходов на науку), а также числе цитирований опубликованных работ, что должно отражать «качество» публикаций: чем больше цитирований, тем лучше исследование. Эти показатели противопоставляются мнению коллег (peer review) о значимости результатов выполненной работы как «субъективному». Однако, как справедливо отмечают С. Крупина и В. Клочков (2014. С. 15), «когда рецензенты и редколлегии журналов принимают решения о публикации статей данного автора — это экспертные решения. И когда читатели научных журналов ссылаются на статьи данного автора, их решения также являются экспертными». При этом выбор работ для цитирования определяется отнюдь не только их качеством (Bornmann, Daniel, 2008. P. 46 — 49). Поэтому показатели, которыми наука, с подачи бюрократов, «отчитывается перед обществом», фактически не отражают ее реальные достижения и влияние на экономику и общество (Glänzel, 2008). Увязка же невалидных измерителей с материальными стимулами преподавателей и исследователей подталкивает их к оппортунистическому (в том числе просто нечестному) поведению (Курбатова и др., 2014; Курбатова, Каган, 2016; Ferro, Martins, 2016; Van Wesel, 2016; Oravec, 2017). Пакистанские исследователи Ш. Шоэйб и Б. Муджтаба, описывая систему стимулирования университетских преподавателей, введенную для решения поставленной правительством страны задачи — добиться, чтобы не менее 5 пакистанских университетов вошли в число 100 лучших мировых вузов, — характеризуют результаты ее применения как «извращенные стимулы и греховное поведение профессионалов» (Shoaib, Mujtaba, 2017). Заметим, что эта система, судя по данной статье, весьма близка к той, которая практикуется в вузах РФ. Исследователи процессов «повышения подотчетности науки обществу» отмечают следующие явления, получающие все более широкое распространение: рост количества низкокачественных публикаций (Holland et al., 2016; Onder, Erdil, 2017)13; появление «хищнических» журналов, публикующих за плату все, что им присылают, не проводя фактически рецензирование и редакционный отбор (Bowman, 2014; Al-Khatib, 2016); манипулирование рейтингами и библиометрическими индексами (Löpez-Cözar et al., 2014; Orduna-Malea et al., 2016; Van Bevern et al., 2016). Ученые начали выбирать темы работы, которые позволили бы им соответствовать требованиям «библиометрической подотчетности» (Bornmann, 2011) и сохранить финансирование, а не вытекающие из логики анализа. Как отмечается в эмпирическом исследовании, «индикаторное мышление» (thinking with indicators) глубоко проникло в практику производства научных знаний, определяя все стадии этого процесса, в то время как другие «нормы и критерии научного качества, например эпистемическая оригинальность, долгосрочный научный прогресс, социетальная релевантность и социальная ответственность» (Müller, de Rijcke, 2017. P. 157) отошли на второй план. Этот тренд, отмечают авторы, находится в явном противоречии с декларируемыми целями научной политики, такими как инно-вационность, социальная релевантность и ответственность науки14. Ответственность формализованной системы оценки результатов за искажения, возникшие в производстве научных знаний, четко демонстрирует П. Велерт (Woelert, 2013; 2015). Все такого рода последствия часто называют непредвиденными или непреднамеренными, что неверно. Они были предсказаны около 40 лет назад (Holmström, 1979), и лишь незнание и/или нежелание учитывать это научное знание (а также опыт советской плановой экономики, десятилетиями «работавшей на показатель», что обусловило ее крах) привели к тому, что реформы в стиле «нового государственного менеджмента» породили массовые негативные последствия во многих значимых для развития этих стран секторах, в том числе в образовании, науке и здравоохранении. Расширение подотчетности науки часто связывают с необходимостью обеспечить рациональное использование бюджетных средств. Поэтому большой интерес представляет интерпретация науки как СЭС в виде своеобразного рынка, субъекты действий на котором — производители научных знаний (продавцы) и их потребители-ученые (покупатели) осуществляют действия (производство знаний и их публикацию), максимизируя свою функцию полезности, единицей измерения которой выступает внимание, то есть время, которое потребители тратят на прочтение (изучение) публикаций одних исследователей, но не других (Franck, 2002)15. Такая трактовка, восходящая к идеям Г. Саймона (Simon, 1971. Р. 40—50), находит частичные эмпирические подтверждения (Andersen, Pallesen, 2008; Lam, 2011). Ее значимость в обсуждаемом аспекте в том, что если субъекты науки принимают рациональные решения о распределении своих ресурсов, то внешний контроль их действий излишен. Государственные контролеры не проверяют, эффективно ли расходует ресурсы частное предприятие: неэффективные фирмы с большой вероятностью выталкиваются с рынка — конечно, в условиях честной конкуренции. Есть еще один аргумент против внешнего контроля качества в науке: научные публикации выступают благами разного типа для разных классов их потребителей. Для профессионалов — это опытное благо, качество которого оценивается в процессе потребления (чтения, изучения), а для непрофессионалов — это доверительное благо, качество которого может быть оценено лишь много времени спустя после потребления. Длительность отсрочки зависит от того, как скоро читатель повысит уровень своих знаний в соответствующей области и сможет понять и оценить прочитанное. Поэтому попытки чиновников (очевидно, непрофессионалов в науке) оценить качество научных исследований библиометрическими показателями более всего напоминают попытки первокурсников оценить качество читаемых лекций по внешнему виду преподавателя: если он в костюме, то лекция хорошая, если в джинсах — плохая (или наоборот). Особенность библиометрических оценок (БМО) результатов научных исследований в том, что с ними невозможно провести операции «обратного инжиниринга», то есть понять, почему, в силу каких содержательных причин та или иная статья получила вычисленную оценку, и использовать это понимание для улучшения последующих результатов исследователя. Единственное, как можно их использовать, — улучшить качество гейминга, «игры в показатели», или «работы на показатель», то есть «улучшить» (еще более исказить) количественный публичный образ статьи (в духе предложений в работе: Rousseau, Rousseau, 2017). Иными словами, БМО не в состоянии продуцировать осмысленные руководящие указания, кроме тривиальностеи типа «надо лучше работать», как если бы ученые, руководимые внутренними стимулами, сами не стремились к этому без всяких указаний. Таким образом, инструменты научной политики, используемые (не только в РФ) для повышения подотчетности науки обществу, научно не обоснованы. Их применение, в полном соответствии с положениями экономической теории, ведет к результатам, которые противоположны декларируемым намерениям этой политики. Конкурентность и множественность источников финансирования исследований. В большинстве стран ОЭСР (США — заметное исключение) сокращение бюджетного финансирования науки, оправдываемое провозглашением «третьей миссии» университетов (см., например: Laredo, 2007), и подталкивание исследовательских организаций к тесному сотрудничеству с бизнесом — реальность уже на протяжении многих лет. Этот тренд сопровождается усилением конкурентного подхода к получению бюджетных исследовательских грантов. В странах, где высокий уровень конкуренции на всех рынках и инновации выступают ведущим фактором конкурентной борьбы, а экономическая свобода и верховенство права способствуют масштабной предпринимательской деятельности, расширение многоканальности финансирования исследований вполне оправданно и не может привести к общему сокращению расходов на них. Однако и в таких, в целом благоприятных для науки институциональных условиях исследователи обратили внимание на потенциальные негативные последствия реализации подобного подхода. Так, А. Геуна на основе теоретического анализа указал на высокую вероятность концентрации усилий на краткосрочных прикладных задачах с предсказуемыми результатами в ущерб поисковым исследованиям (Geuna, 2001). Этот вывод получил эмпирические подтверждения (Gulbrandsen, Smeby, 2005; Schmidt, 2012). Анализ проектов, поддержанных Советом по инженерным и физическим научным исследованиям в Великобритании, показал, что поисковые работы, обещавшие «радикально новые» результаты, получали финансирование гораздо реже, чем традиционные, выполнявшиеся в рамках мейнстрима (Banal-Estanol et al., 2016). Д. Блюменталь с соавторами выявили, что получение грантов от бизнеса может задержать публикацию результатов исследований и даже их полное засекречивание, что сдерживает рост научного знания (Blumenthal et al., 2006). Б. Жанг и С. Ванг, анализируя взаимодействие университетов и бизнеса в Китае, обнаружили, что интенсивное сотрудничество приводит к снижению индекса Хирша соответствующих исследователей (Zhang, Wang, 2017). Анализ показывает, что ясная причинная связь конкуренции за гранты и продуктивности исследований отсутствует (Auranen, Nieminen, 2010). Конкурентное финансирование исследований порождает еще одно следствие: неустойчивость финансового положения исследователей, превращение академической профессии в прекариатную (Вольчик, Посухова, 2016; 2017), что, по оценкам Т. Аареваара и И. Добсона, создает стрессовую атмосферу «страха и отвращения» (fear and loathing) в университетах (Aarrevaara, Dobson, 2015). Это, как давно установлено, не способствует продуктивности исследований (Blackburn, Bentley, 1993; Kinman, 2001). Однако в литературе представлены и другие оценки. Так, Б. Ван Луи с соавторами выявили, что ученые, не чуждые предпринимательству, то есть патентующие свои изобретения, публикуются чаще, чем «чистые» исследователи (Van Looy et al., 2006); о том же свидетельствуют данные К. Дриваса с соавторами (Drivas et al., 2015) и Р. Гарсиа с коллегами (Garcia et al., 2017). Объяснение такой разноречивости результатов дают X. Хоттенротт и К. Лоусон, указывая на неоднородность совокупности исследователей: одни имеют склонность к занятию наукой («традиционный» тип), а другие готовы заниматься приложениями своих результатов («коммерческий» тип). Различия в концентрации этих типов в разных исследовательских организациях и приводят к несовпадающим выводам относительно долгосрочных последствий усиления взаимодействия науки и бизнеса (Hottenrott, Lawson, 2017). По данным М. Каттанео с соавторами, конкурентный механизм финансирования в целом увеличивает продуктивность исследователей (Cattaneo et al., 2016), о чем говорят и другие работы (Bolli, Somogyi, 2011; Schneider et al., 2016)16. Таким образом, при нынешнем уровне наших знаний нельзя утверждать, что конкурентное многоканальное финансирование науки способствует улучшению условий производства научного знания, хотя нельзя утверждать и обратное. Но при оценке обоснованности введения такой системы в РФ важно обратить внимание на то, что она усиливает неопределенность жизненных перспектив для исследователей в силу низкой емкости рынка профессионального труда и небольшого числа фондов, финансирующих исследования. В то же время в других условиях многоканальность финансирования науки повышает его устойчивость (Butos, McQuade, 2012). Одновременно заметим, что один фактор повышения уровня производства научных знаний установлен с высокой степенью надежности: это устойчивый и высокий уровень финансирования исследований (Osuna et al., 2011; Amara et al., 2015), причем эффективной формой такого финансирования выступают стратегические целевые программы с высоким приоритетом финансирования (Ebadi, Schiffauerova, 2016). Развитие науки в университетах, совмещение исследований и преподавания. Идея В. фон Гумбольдта об университетах как единстве обучения и научных исследований, реализованная как в Европе, так и во многих других странах, включая США, возникла в начале XIX в., когда университетское образование было доступно немногим и люди с таким образованием с большой вероятностью продолжали заниматься исследованиями (Anderson, 2000). Совмещение научной и преподавательской деятельности было в этих условиях вполне естественным. Развитие науки в университетах в XX в., особенно во второй его половине, когда охват высшим образованием значительно расширился, было поддержано и тем обстоятельством, что демонстрация научных достижений того или иного университета стала действенным сигналом высокого качества предоставляемых в нем образовательных услуг как доверительных благ в конкуренции за абитуриентов (Тамбовцев, Рождественская, 2014). В современных условиях массового высшего образования и ориентации значительной части исследований на прикладные результаты (вследствие спроса со стороны бизнеса), разделение таких видов деятельности, как преподавание и исследования, становится условием повышения результативности каждого из них. Дж. Хетти и Г. Марш в своем метааналитическом исследовании четко показали, что связь между успешностью преподавания и занятиями наукой отсутствует (Hattie, Marsh, 1996). Это позволило им в более поздней работе назвать распространенное убеждение в том, что преподавание и исследования, которыми занимается один и тот же индивид, взаимно дополняют и поддерживают друг друга, «живучим мифом» (Marsh, Hattie, 2002. P. 606). Такую живучесть подтверждает, например, одно из недавних исследований, авторы которого не только повторили упомянутые результаты Хетти и Марша, но и указали на опасность снижения качества образовательных услуг, поскольку в системы оценки университетских преподавателей повсеместно включаются данные об их публикационной активности (Cadez et al., 2017). Время — ограниченный ресурс, и распределение его в пользу проведения исследований и написания статей сокращает возможности для подготовки качественных занятий с учащимися (Hardre et al., 2011). Следовательно, установка научной политики РФ на перенос исследований в университеты с упором на их проведение работающими там преподавателями не соответствует имеющимся научным данным и не может считаться научно обоснованной. Единственный очевидный плюс для проведения исследований, который дает концентрация науки в вузах, — наличие «в шаговой доступности» большого числа потенциальных работников, которых легко привлекать к исследовательской работе (разумеется, с учетом их квалификации). Однако практически тот же эффект дает преподавание в университетах ученых, работающих в других организациях. Одновременно это высвобождает время преподавателей для изучения актуальной литературы и подготовки к качественному проведению занятий со студентами. Укрупнение исследовательских организаций и университетов. Еще один живучий миф, широко распространенный среди чиновников многих стран, — их убежденность в том, что только крупные научные организации могут производить важные научные знания, вследствие чего происходят слияния университетов и исследовательских организаций17. Между тем научные основания для такого рода бюрократических действий отсутствуют. Например, на базе обследования большого числа научных организаций в Италии и Франции было показано, что с точки зрения продуктивности ученых (числа их публикаций) большие организации не имеют преимуществ перед малыми (Bonaccorsi, Daraio, 2005). Было также выявлено отсутствие эффекта агломерации, то есть положительного влияния на продуктивность сосредоточения в одном городе большого числа организаций. Аналогичные результаты получены и для исследовательских групп внутри научных организаций (Seglen, Aksnes, 2000; Horta, Lacy, 2011). В то же время для австрийских университетов, правда, используя другую технику анализа — анализ среды функционирования (Data Envelopment Analysis), авторы установили, что зависимость продуктивности от размера имеет нелинейный характер: наибольшие значения демонстрируют малые и крупные подразделения (Leitner et al., 2007). Т. Брандт и Т. Шуберт объясняют отсутствие эффекта масштаба спецификой технологии производства научного знания (Brandt, Schubert, 2013), которая, однако, различается для разных отраслей науки. Здесь особенно важно выявить связь размера организации и ее продуктивности для отдельных областей исследований. Такой анализ, проведенный для Италии, показал, что ни в одной отрасли не было положительной корреляции между размером и продуктивностью, а в химии, инженерной науке и исследованиях окружающей среды имела место отрицательная корреляция; одновременно было установлено, что наиболее продуктивные организации почти во всех областях относятся к числу малых (Bonaccorsi, Daraio, 2002. P. 19). М. Коччиа отсутствие эффекта масштаба в науке объясняет отрицательным влиянием бюрократизации, которая увеличивается с ростом размеров организации и затрудняет работу исследователей: для оправдания своего существования бюрократы постоянно придумывают различные правила и формы отчетности, отнимающие время у исследователей (Coccia, 2009). На эти моменты обращают внимание и другие ученые (Walsh, Lee, 2015). Сегодня, как показывает анализ, доказательства благотворного влияния укрупнения исследовательских организаций, включая университеты, на эффективность производства научных знаний отсутствуют. Более того, имеется немало свидетельств негативного влияния на нее такого рода бюрократических «реформ». Соответственно данный инструмент российской научной политики научно не обоснован. Фактически проводимая в РФ (и не только) научная политика не является научно обоснованной как минимум в следующих своих составляющих:
Вопрос о том, какие инструменты научной политики действительно способствуют развитию производства научных знаний, выходит за рамки этой статьи. 1 Нужно сказать, что мы далеки от представлений о «линейном», прямом и непосредственном влиянии науки на экономику: в эффективные технологии могут трансформироваться результаты исследований, выполненных десятилетия назад. Чтобы такая трансформация произошла, необходимы усилия многих индивидов и организаций. Известная модель «тройной спирали» предполагает взаимодополняемость науки, государства и бизнеса: иными словами, если какой-то компонент отсутствует (например, наука), то и результат будет нулевым. 2 См., например, определение научной политики Дж. Калверта и Б. Мартина: «Множество целей, институтов и механизмов для распределения средств на научные исследования и для использования результатов науки для общих социальных и политических целей» (Calvert, Martin, 2001. P. 13676). 3 Например, в сфере медицины временной разрыв составляет в среднем 17 лет (Morris et al.f 2011). 4 См. также, например: Bornmann, 2013. 5 В СССР и его сателлитах ГНП существовала и активно проводилась на протяжении практически всего времени их существования. 6 Впрочем, подход ДП в этом аспекте не так от него и далек: «Первая рекомендация доказательной медицины/политики предполагает, что конечное решение будет взято из валидных опций» (La Caze, Colyvan, 2017. P. 3). Тем самым суть доказательности — в отбрасывании невалидных опций, то есть тех, относительно которых существуют доказательства либо негативных последствий достижения априорной цели, либо недостижимости цели выбранными средствами. 7 Функция полезности субъекта может, очевидно, включать переменные, относящиеся как исключительно к нему, так и к более широкому кругу иных индивидов — от его ближайшего окружения до крупных социальных групп и общества в целом. 8 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2538-р (ред. от 20.07.2016) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы)». 9 Одновременно отметим, что они полностью соответствуют целям научной политики в странах ОЭСР, где также подчеркивается нацеленность науки на повышение конкурентоспособности национальных экономик, усиление связи с производством, создание новых технологий и т. п. 10 В текстах, подобных приведенному, негативные последствия непродуманного использования научных знаний демагогически приписывались собственно науке, а не тем, кто использовал в своих интересах ее результаты. 11 Если, конечно, под ответственностью лабораторий, журналов и т. п. понимать ответственность их руководителей. 12 В определенной мере и потому, что смутно само понятие конкурентоспособности страны, несмотря на его широкое использование как учеными, так и политиками и бюрократами. 13 Давление на ученых со стороны бюрократов, понуждающее их больше публиковаться, не означает, что рост числа публикаций у каждого исследователя ведет к снижению их качества. Напротив, качество работ более продуктивных ученых обычно превосходит качество статей менее продуктивных (Abramo et al., 2010). Причина отмеченного общего снижения качества обусловлена тем, что больше статей стали публиковать менее талантливые исследователи. 14 Формы «работы на показатель», спровоцированные «реформами подотчетности», проникли даже туда, где ранее в странах ОЭСР практически отсутствовали, — в сферу высшего образования (Chapman, Lindner, 2016). 15 Попытки представить академическую науку как систему рынков предпринимались и ранее (Ziman, 1991), однако не получили развития. 16 Комментируя эти результаты, необходимо отметить, что продуктивность в них оценивается посредством различных БМО, которые, как показано выше, не отражают действительную ценность исследований. Иными словами, рост числа публикаций и производных БМО можно объяснить «работой на показатель», а не другими причинами. 17 Ж. Баррье говорит даже о «мании слияний» (Barrier, 2014). Список литературы / ReferencesВольчик В. В., Посухова О. Ю. (2016). Прекариат и профессиональная идентичность в контексте институциональных изменений // Terra Economicus. Т. 14, JMb 2. С. 159-173. [Volchik V. V., Posukhova О. Yu. (2016). Precariat and professional identity in the context of institutional change. Terra Economicus, Vol. 14, No. 2, pp. 159 — 173. (In Russian).] Вольчик В. В., Посухова О. Ю. (2017). Реформы в сфере образования и прекариа-тизация учителей // Terra Economicus. Т. 15, JMb 2. С. 122 — 138. [Volchik V. V., Posukhova О. Yu. (2017). Education reforms and precariatization of school teachers. Terra Economicus, Vol. 15, No. 2, pp. 122 — 138. (In Russian).] Крупина С. M., Клочков В. В. (2014). Перспективы российской фундаментальной науки в условиях институциональных реформ: моделирование и качественные выводы // Материалы 17-х Друкеровских чтений «Инновационные перспективы России и мира: теория и моделирование». Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ). С. 11 — 24. [Krupina S. М., Klochkov V. V. (2014). Perspectives of Russian fundumental science under institutional reforms: Modelling and qualitative conclusions. In: Proceedings of the 17th Drucker''s readings "Russia and world innovation perspectives: Theory and modelling". Novocherkassk: URGTU (NPI), pp. 11—24. (In Russian).] Курбатова M. В., Апарина H. Ф., Донова И. В., Каган Е. С. (2014). Формализация деятельности преподавателя и эффективность деятельности вузов // Terra Economicus. Т. 12, Mb 4. С. 33 — 51. [Kurbatova М. V., AparinaN. F., Donova I. V., Kagan E. S. (2014). Lecturer activity formalization and the universities activity effectiveness. Terra Economicus, Vol. 12, No. 4, pp. 33 — 51. (In Russian).] Курбатова M. В., Каган E. С. (2016). Оппортунизм преподавателей вузов как способ приспособления к усилению внешнего контроля деятельности // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) Т. 8, М° 3. С. 116 — 136. [Kurbatova М. V., Kagan Е. S. (2016). Opportunism of university lecturers as a way to adapt to the external control activities strengthening. Journal of Institutional Studies, Vol. 8, No. 3, pp. 116 — 136. (In Russian).] Майминас E. 3., Тамбовцев В. Л., Фонотов А. Г. (1983). О разработке концепции экономического и социального развития СССР // Экономика и математические методы. Т. 19, Вып. 4. С. 583—597. [Maiminas Е. Z., Tambovtsev V. L., Fonotov A. G. (1983). On the formulation of the USSR social and economic development conception. Economika і Matematicheskie Metody, Vol. 19, No. 4, pp. 583—597. (In Russian).] Майминас E. 3., Тамбовцев В. Л., Фонотов А. Г. (1986). К методологии обоснования долгосрочных перспектив экономического и социального развития СССР // Экономика и математические методы. Т. 22, Вып. 3. С. 397 — 411. [Maiminas Е. Z., Tambovtsev V. L., Fonotov A. G. (1986). Toward the methodology of grounding long-term perspectives of the USSR social and economic development. Economika і Matematicheskie Metody, Vol. 22, No. 3, pp. 397—411. (In Russian).] Нефедова А. И., Фурсов К. С. (2016). Общественное мнение о развитии науки и технологий. М.: Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. [Nefedova A. I., Fursov К. S. (2016). Public opinion on science and technology development. Moscow: Institute for Statistic Research and Knowledge Economy, NRU HSE. (In Russian).] Тамбовцев В. Л. (1986). Научно-техническая политика: методология разработки и принципы реализации // Вопросы формирования и реализации научно-технической политики. М.: ИЭП НТП АН СССР. С. 3 — 16. [Tambovtsev V. L. (1986). Science and technology policy: Methodology of formulation and implementation principles. In: Issues of formulation and implementation of science and technology policy. Moscow: IEP NTP AN USSR, pp. 3 — 16. (In Russian).] Тамбовцев В. Л., Рождественская И. А. (2014). Реформа высшего образования в России: международный опыт и экономическая теория // Вопросы экономики. М° 5. С. 97—108. [Tambovtsev V. L., Rozhdestvenskaya I. А. (2014). Higher education reform in Russia: International experience and economics. Voprosy Ekonomiki, No. 5, pp. 97 — 108. (In Russian).] Aarrevaara Т., Dobson I. R. (2015). Academics under pressure: Fear and loathing in Finnish universities? In: U. Teichler, W. Cummings (eds.). Forming, recruiting and managing the academic profession. Cham: Springer, pp. 211—223. Abramo G., D'Angelo C. A., Di Costa F. (2010). Testing the trade-off between productivity and quality in research activities. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 61, No. 1, pp. 132 — 140. Ahmadpoor M., Jones B. F. (2017). The dual frontier: Patented inventions and prior scientific advance. Science, Vol. 357, No. 6351, pp. 583 — 587. Al-Khatib A. (2016). Protecting authors from predatory journals and publishers. Publishing Research Quarterly, Vol. 32, No. 4, pp. 281—285. Amara N., Landry R., Halilem N. (2015). What can university administrators do to increase the publication and citation scores of their faculty members? Scientometries, Vol. 103, No. 2, pp. 489-530. Andersen L. В., Pallesen Т. (2008). "Not just for the money?" How financial incentives affect the number of publications at Danish research institutions. International Public Management Journal, Vol. 11, No. 1, pp. 28 — 47. Anderson R. (2000). Before and after Humboldt: European universities between the eighteenth and the nineteenth centuries. History of Higher Education Annual, Vol. 20, pp. 5 — 14. Aristei D., Sterlacchini A., Venturini F. (2017). Effectiveness of R&D subsidies during the crisis: Firm-level evidence across EU countries. Economics of Innovation and New Technology, Vol. 26, No. 6, pp. 554 — 573. Arrow K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for inventions. In: R. Nelson (ed.). The rate and direction of inventive activity: Economic and social factors. Princeton, MA: Princeton University Press, pp. 609 — 626. Auranen O., Nieminen M. (2010). University research funding and publication performance — An international comparison. Research Policy, Vol. 39, No. 6, pp. 822 — 834. Balconi M., Brusoni S., Orsenigo L. (2010). In defence of the linear model: An essay. Research Policy, Vol. 39, No. 1, pp. 1 — 13. Banal-Estanol A., Macho-Stadler I., Рёгег Castrillo D. (2016). Key success drivers in public research grants: Funding the seeds of radical innovation in academia? CESifo Working Paper Series, No. 5852. Barrier J. (2014). Merger mania in science: Organizational restructuring and patterns of cooperation in an academic research centre. In: R. Whitley, J. Gläser (eds.). Organizational transformation and scientific change: The impact of institutional restructuring on universities and intellectual innovation. Bingley, UK: Emerald, pp. 141-172. Becker B. (2015). Public R&D policies and private R&D investment: A survey of the empirical evidence. Journal of Economic Surveys, Vol. 29, No. 5, pp. 917—942. Bellucci A., Pennacchio L. (2016). University knowledge and firm innovation: Evidence from European countries. Journal of Technology Transfer, Vol. 41, No. 4, pp. 730—752. Benner M., Sörlin S. (2007). Shaping strategic research: Power, resources, and interests in Swedish research policy. Minerva, Vol. 45, No. 1, pp. 31 — 48. Besley J. C. (2013). The state of public opinion research on attitudes and understanding of science and technology. Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 33, No. 1-2, pp. 12-20. Blackburn R. Т., Bentley R. J. (1993). Faculty research productivity: Some moderators of associated stressors. Research in Higher Education, Vol. 34, No. 6, pp. 725 — 745. Blumenthal D., Campbell E. G., Gokhale M., Yucel R., Clarridge В., Hilgartner S., Holtzman N. A. (2006). Data withholding in genetics and the other life sciences: Prevalence and predictors. Academic Medicine, Vol. 81, No. 2, pp.137 —145. Bolli Т., Somogyi F. (2011). Do competitively acquired funds induce universities to increase productivity? Research Policy, Vol. 40, No. 1, pp. 136 — 147. Bonaccorsi A., Daraio C. (2002). The organization of science. Size, agglomeration and age effects in scientific productivity. Paper submitted to the SPRU Conference "Rethinking science policy", March 21—23. Bonaccorsi A., Daraio С. (2005). Exploring size and agglomeration effects on public research productivity. Scientometries, Vol. 63, No. 1, pp. 87 — 120. Bornmann L. (2011). Mimicry in science? Scientometries, Vol. 86, No. 1, pp. 173 — 177. Bornmann L. (2013). What is societal impact of research and how can it be assessed? A literature survey. Journal of the Association for Information Science and Technology, Vol. 64, No. 2, pp. 217—233. Bornmann L., Daniel H.-D. (2008). What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior. Journal of Documentation, Vol. 64, No. 1, pp. 45 — 80. Bovens M. (2005). Public accountability. In: E. Ferlie, L. E. Lynn (Jr.), C. Pollitt (eds.). Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press, pp. 182-208. Bowman J. D. (2014). Predatory publishing, questionable peer review, and fraudulent conferences. American Journal of Pharmaceutical Education, Vol. 78, No. 10, Article 176. http://www.ajpe.org/doi/abs/10.5688/ajpe7810176. Bozeman В., Sarewitz D. (2005). Public values and public failure in US science policy. Science and Public Policy, Vol. 32, No. 2, pp. 119 — 136. Brandt Т., Schubert T. (2013). Is the university model an organizational necessity? Scale and agglomeration effects in science. Scientome tries, Vol. 94, No. 2, pp. 541—565. Butos W. N., McQuade T. J. (2006). Government and science: A dangerous liaison? Independent Review, Vol. 11, No. 2, pp. 177—208. Butos W. N., McQuade T. J. (2012). Nonneutralities in science funding: Direction, destabilization, and distortion. Journal des Economistes et des Etudes Humaines, Vol. 18, No. 1, Article 4. DOI: https://doi.org/10.1515/1145-6396.1262. Cadez S., Dimovski V., Zaman Groff M. (2017). Research, teaching and performance evaluation in academia: The salience of quality. Studies in Higher Education, Vol. 42, No. 8, pp. 1455-1473. Cairney P., Jones M. D. (2016). Kingdon's multiple streams approach: What is the empirical impact of this universal theory? Policy Studies Journal, Vol. 44, No. 1, pp. 37—58. Callon M. (1994). Is science a public good? Science, Technology and Human Values, Vol. 19, No. 4, pp. 395-424. Calvert J., Martin B. (2001). Science funding: Europe. In: N. J. Smelser, P. B. Baltes (eds.). International encyclopedia of the social and behavioral sciences, Vol. 20 (S. Jasanoff (ed.). Science and technology studies). Oxford and New York: Elsevier Science, pp. 13676 — 13680. Carboni O. A. (2017). The effect of public support on investment and R&D: An empirical evaluation on European manufacturing firms. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 117, pp. 282—295. Cattaneo M., Meoli M., Signori A. (2016). Performance-based funding and university research productivity: The moderating effect of university legitimacy. Journal of Technology Transfer, Vol. 41, No. 1, pp. 85 — 104. Chapman D. W., Lindner S. (2016). Degrees of integrity: The threat of corruption in higher education. Studies in Higher Education, Vol. 41, No. 2, pp. 247—268. Christensen Т., Laegreid P. (2015). Performance and accountability — a theoretical discussion and an empirical assessment. Public Organization Review, Vol. 15, No. 2, pp. 207—225. Coccia M. (2009). Research performance and bureaucracy within public research labs. Scientometrics, Vol. 79, No. 1, pp. 93 — 107. Cohen W. M., Nelson R. R., Walsh J. P. (2002). Links and impacts: The influence of public research on industrial R&D. Management Science, Vol. 48, No. 1, pp. 1—23. Czarnitzki D., Lopes Bento C. (2012). Evaluation of public R&D policies: A crosscountry comparison. World Review of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 9, No. 2 — 4, pp. 254—282. Dasgupta P., David P. A. (1994). Toward a new economics of science. Research Policy, Vol. 23, No. 5, pp. 487-521. David P. A. (1998). The political economy of public science. In: H. L. Smith (ed.). The regulation of science and technology. London: Macmillan, pp. 33 — 57. David Р. А. (2008). The historical origins of "open science": An essay on patronage, reputation and common agency contracting in the scientific revolution. Capitalism and Society, Vol. 3, No. 2, Article 5. David P. A., Hall В. H., Toole A. A. (2000). Is public R&D a complement or substitute for private R&D? A review of the econometric evidence. Research Policy, Vol. 29, No. 4-5, pp. 497-529. Davies H., Nutley S., Smith P. (2000). Introducing evidence-based policy and practice in public services. In: H. Т. O. Davies, S. M. Nutley, P. C. Smith (eds.). What works? Evidence-based policy and practice in public services. Bristol: The Policy Press, pp. 1 — 11. Demeritt D. (2000). The new social contract for science: Accountability, relevance, and value in US and UK science and research policy. Antipode, Vol. 32, No. 3, pp. 308-329. Demsetz H. (1969). Information and efficiency: Another viewpoint. Journal of Law & Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 1—22. Dezhina I. G. (2017). Science and innovation policy of the Russian government: A variety of instruments with uncertain outcomes? Public Administration Issues, No. 5 (Special Issue), pp. 7—26. Doern B. G., Stoney C. (2009). Federal research and innovation policies and Canadian universities: A framework for analysis. In: G. B. Doern, C. Stoney (eds.). Research and innovation policy: Changing federal government-university relations. Toronto: University of Toronto Press, pp. 3 — 34. Drivas K., Balafoutis А. Т., Rozakis S. (2015). Research funding and academic output: Evidence from the Agricultural University of Athens. Prometheus: Critical Studies in Innovation, Vol. 33, No. 3, pp. 235—256. Dubnick M. (2005). Accountability and the promise of performance: In search of the mechanisms. Public Performance and Management Review, Vol. 28, No. 3, pp. 376 — 417. Ebadi A., Schiffauerova A. (2016). How to boost scientific production? A statistical analysis of research funding and other influencing factors. Scientometrics, Vol. 106, No. 3, pp. 1093-1116. Erkkilä Т. (2007). Governance and accountability — A shift in conceptualization. Public Administration Quarterly, Vol. 31, No. 1/2, pp. 1 — 38. Ferro M. J., Martins H. F. (2016). Academic plagiarism: Yielding to temptation. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, Vol. 13, No. 1, p. 1 — 11. Francis J. R. (1989). The credibility and legitimation of science: A loss of faith in the scientific narrative. Accountability in Research: Policies and Quality Assurance, Vol. 1, No. 1, pp. 5-22. Franck G. (2002). The scientific economy of attention: A novel approach to the collective rationality of science. Scientometrics, Vol. 55, No. 1, pp. 3—26. Garcia R., Araujo V., Mascarini S., Gomes dos Santos E., Ribeiro Costa A. (2017). The academic benefits of long-term university-industry collaborations: A comprehensive analysis. Unpublished manuscript. URL: https://www.anpec.org.br/ encontro/2017/submissao/files_I/i9-37eb54ec2895954e09d70ddc72561777.pdf Geuna A. (2001). The changing rationale for European university research funding: Are there negative unintended consequences? Journal of Economic Issues, Vol. 35, No. 3, pp. 607-632. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage. Glänzel W. (2008). Seven myths in bibliometrics: About facts and fiction in quantitative science studies. CÖLLN ET Journal of Scientometrics and Information Management, Vol. 2, No. 1, pp. 9-17. Gonzalez X., Pazö C. (2008). Do public subsidies stimulate private R&D spending? Research Policy, Vol. 37, No. 3, pp. 371—389. Gulbrandsen M., Smeby J. C. (2005). Industry funding and university professors' research performance. Research Policy, Vol. 34, No. 6, pp. 932 — 950. Нагс1гё Р. L., Beesley A. D., Miller R. L., Расе Т. М. (2011). Faculty motivation to do research: Across disciplines in research-extensive universities. Journal of the Professoriate, Vol. 5, No. 1, pp. 35 — 69. Hattie J., Marsh H. W. (1996). The relationship between research and teaching: A metaanalysis. Review of Educational Research, Vol. 66, No. 4, pp. 507—542. Head B. W. (2013). Evidence-based policymaking — Speaking truth to power? Australian Journal of Public Administration, Vol. 72, No. 4, pp. 397—403. Henriques L., Larödo P. (2013). Policy-making in science and technology policies: The "OECD model" unveiled. Research Policy, Vol. 42, No. 3, pp. 801-816. Holland C., Lorenzi F., Hall T. (2016). Performance anxiety in academia: Tensions within research assessment exercises in an age of austerity. Policy Futures in Education, Vol. 14, No. 8, pp. 1101-1116. Holmström В. (1979). Moral hazard and observability. Bell Journal of Economics, Vol. 10, No. 1, pp. 74-91. Horta H., Lacy T. A. (2011). How does size matter for science? Exploring the effects of research unit size on academics' scientific productivity and information exchange behaviors. Science and Public Policy, Vol. 38, No. 6, pp. 449 — 460. Hottenrott H., Lawson C. (2017). Fishing for complementarities: Research grants and research productivity. International Journal of Industrial Organization, Vol. 51, No. 1, pp. 1-38. Kinman G. (2001). Pressure points: A review of research on stressors and strains in UK academics. Educational Psychology, Vol. 21, No. 4, pp. 473 — 492. La Caze A., Colyvan M. (2017). A challenge for evidence-based policy. Axiomathes, Vol. 27, No. 1, pp. 1-13. Lam A. (2011). What motivates academic scientists to engage in research commercialization: 'Gold', 'ribbon' or 'puzzle'? Research Policy, Vol. 40, No. 10, pp. 1354 — 1368. Larödo P. (2007). Revisiting the third mission of universities: Toward a renewed categorization of university activities? Higher Education Policy, Vol. 20, No. 4, pp. 441 — 456. Larsen M. T. (2011). The implications of academic enterprise for public science: An overview of the empirical evidence. Research Policy, Vol. 40, No. 1, pp. 6 — 19. Leitner K.-H., Prikoszovits J., Schaffhauser-Linzatti M., Stowasser R., Wagner K. (2007). The impact of size and specialisation on universities' department performance: A DEA analysis applied to Austrian universities. Higher Education, Vol. 53, No. 4, pp. 517-538. Lewandowsky S., Oberauer К. (2016). Motivated rejection of science. Current Directions in Psychological Science, Vol. 25, No. 4, pp. 217—222. Lindberg S. (2013). Mapping accountability: Core concept and subtypes. International Review of Administrative Sciences, Vol. 79, No. 2, pp. 202—226. Löpez-Cözar E. D., Robinson-Garcia N., Torres-Salinas D. (2014). The Google scholar experiment: How to index false papers and manipulate bibliometric indicators. Journal of the Association for Information Science and Technology, Vol. 65, No. 3, pp. 446 — 454. Mansfield E. (1991). Academic research and industrial innovation. Research Policy, Vol. 20, No. 1, pp. 1-12. Marburger J. H., III. (2003). Science policy after September 11. In: AAAS science and technology policy yearbook 2003. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science, pp. 5 — 13. Marburger J. H., III. (2005). Wanted: Better benchmarks. Science, Vol. 308, No. 5725, p. 1087. Marsh H. W., Hattie J. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs? Journal of Higher Education, Vol. 73, No. 5, pp. 603 — 641. Martin B. R. (2003). The changing social contract for science and the evolution of the university. In: A. Geuna, A. J. Salter, W. E. Steinmueller (eds.). Science and innovation: Rethinking the rationales for funding and governance. Aldershot and Brookfield, Vermont: Edward Elgar, pp. 7—29. Martin В. R. (2016). R&D policy instruments — A critical review of what we do and don't know. Industry and Innovation, Vol. 23, No. 2, pp. 157 — 176. Metcalfe A. S. (2008). Theorizing research policy: A framework for higher education. In: J. C. Smart (ed.). Higher education: Handbook of theory and research. Springer Science and Business Media B.V., pp. 241—275. Morris Z. S., Wooding S., Grant J. (2011). The answer is 17 years, what is the question: Understanding time lags in translational research. Journal of the Royal Society of Medicine, Vol. 104, No. 12, pp. 510-520. Müller R., de Rijcke S. (2017). Exploring the epistemic impacts of academic performance indicators in the life sciences. Research Evaluation, Vol. 26, No. 3, pp. 157—168. Nelson R. R. (1959). The simple economics of basic scientific research. Journal of Political Economy, Vol. 67, No. 3, pp. 297—306. Newman J. (2017). Deconstructing the debate over evidence-based policy. Critical Policy Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 211-226. OECD (2000). Science, technology and innovation in the new economy. Paris: OECD Publ. Onder C., Erdil S. E. (2017). Opportunities and opportunism: Publication outlet selection under pressure to increase research productivity. Research Evaluation, Vol. 26, No. 2, pp. 66—77. Oravec J. A. (2017). The manipulation of scholarly rating and measurement systems: Constructing excellence in an era of academic stardom. Teaching in Higher Education, Vol. 22, No. 4, pp. 423-436. Orduna-Malea E., Martin-Martin A., Löpez-Cözar E. D. (2016). Metrics in academic profiles: A new addictive game for researchers? Revista Espanola de Salud Publica, Vol. 90, pp. el-e5. URL: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttex-t&pid=S1135-57272016000100305&lng=en&nrm=iso Ossege C. (2012). Accountability — Are we better off without it? Public Management Review, Vol. 14, No. 5, pp. 585 — 607. Osuna C., Cruz-Castro L., Sanz-Menöndez L. (2011). Overturning some assumptions about the effects of evaluation systems on publication performance. Scientometrics, Vol. 86, No. 3, pp. 575-592. Polanyi M. (1962). The republic of science: Its political and economic theory. Minerva, Vol. 1, No. 1, pp. 54-74. Prettner K., Werner K. (2016). Why it pays off to pay us well: The impact of basic research on economic growth and welfare. Research Policy, Vol. 45, No. 5, pp. 1075 — 1090. Quaglione D., Muscio A., Vallanti G. (2015). The two sides of academic research: Do basic and applied activities complement each other? Economics of Innovation and New Technology, Vol. 24, No. 7, pp. 660 — 681. Reilly В. M. (2004). The essence of EBM. British Medical Journal, Vol. 329, No. 7473, pp. 991-992. Rousseau S., Rousseau R. (2017). Being metric-wise: Heterogeneity in bibliometric knowledge. El profesional de la informaciön, Vol. 26, No. 3, pp. 480 — 487. Saltelli A., Giampietro M. (2016). The fallacy of evidence-based policy. In: A. Benessia et al. The rightful place of science: Science on the verge. Tempe, AZ: Consortium for Science, Policy & Outcomes, pp. 31 — 70. Saltelli A., Giampietro M. (2017). What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? Futures, Vol. 91, pp. 62—71. Salter A. J., Martin B. R. (2001). The economic benefits of publicly funded basic research: A critical review. Research Policy, Vol. 30, No. 3, pp. 509 — 532. Sanz-Menöndez L., Van Ryzin G. G. (2015). Economic crisis and public attitudes toward science: A study of regional differences in Spain. Public Understanding of Science, Vol. 24, No. 2, pp. 167-182. Sarewitz D. (1997). Social change and science policy. Issues in Science and Technology, Vol. 13, No. 4, pp. 29-32. Schmidt E. (2012). University funding reforms in Nordic countries. In: F. Maruyama, I. Dobson (eds.). Cycles in university reform: Japan and Finland compared. Tokyo: Center for National University Finance and Management, pp. 31—56. Schneider J. W., Aagaard К., Bloch С. W. (2016). What happens when national research funding is linked to differentiated publication counts? A comparison of the Australian and Norwegian publication-based funding models. Research Evaluation, Vol. 25, No. 3, pp. 244—256. Schraagen J. M. (2013). To publish or not to publish: A systems analysis of longitudinal trends in publishing strategies of a human factors research organization. Theoretical Issues in Ergonomics Science, Vol. 14, No. 5, pp. 499 — 530. Seglen P. O., Aksnes D. W. (2000). Scientific productivity and group size: A biblio-metric analysis of Norwegian microbiological research. Scientometrics, Vol. 49, No. 1, pp. 125-143. Shoaib S., Mujtaba B. G. (2017). Perverse incentives and peccable behavior in professionals: A qualitative study of the faculty. Public Organization Review [forthcoming]. DOI 10.1007/sl 1115-017-0386-2. Simon H. A. (1971). Designing organizations for an information-rich world. In: M. Greenberger (ed.). Computers, communications and the public interest. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 38—72. Siota J. (2018). The dilemma: Academic quality or economic sustainability. In: Siota J. Linked innovation: Commercializing discoveries at research centers. Cham: Pal-grave Macmillan, pp. 1 — 12. Slaughter S., Rhoades G. (1996). The emergence of a competitiveness research and development policy coalition and the commercialization of academic science and technology. Science, Technology and Human Values, Vol. 21, No. 3, pp. 303 — 339. Stephan P. E. (1996). The economics of science. Journal of Economic Literature, Vol. 34, No. 3, pp. 1199-1235. Toole A. A. (2007). Does public scientific research complement private investment in research and development in the pharmaceutical industry? Journal of Law and Economics, Vol. 50, No. 1, pp. 81 — 104. Tuunainen J. (2013). Science transformed? Reflections on professed changes in knowledge production. In: A. Heck (ed.). Organizations, people and strategies in astronomy, Vol. 2. Duttlenheim: Venngeist, p. 43—71. UK Government (1993). Realising our potential: A strategy for science, engineering and technology. London: HMSO. Vahabi M. (2016). A positive theory of the predatory state. Public Choice, Vol. 168, No. 3, pp. 153 — 175. Van Bevern R., Komusiewicz C., Niedermeier R., Sorge M., Walsh T. (2016). H-index manipulation by merging articles: Models, theory, and experiments. Artificial Intelligence, Vol. 240, pp. 19 — 35. Van Looy В., Callaert J., Debackere K. (2006). Publication and patent behavior of academic researchers: Conflicting, reinforcing or merely co-existing? Research Policy, Vol. 35, No. 4, pp. 596-608. Van Wesel M. (2016). Evaluation by citation: Trends in publication behavior, evaluation criteria, and the strive for high impact publications. Science and Engineering Ethics, Vol. 22, No. 1, pp. 199-225. Walsh J. P., Lee Y. N. (2015). The bureaucratization of science. Research Policy, Vol. 44, No. 8, pp. 1584-1600. Wells P. (2007). New labour and evidence based policy making: 1997—2007. People, Place & Policy Online, Vol. 1, No. 1, pp. 22—29. Woelert P. (2013). The "economy of memory": Publications, citations, and the paradox of effective research governance. Minerva, Vol. 51, No. 3, pp. 341—362. Woelert P. (2015). Governing knowledge: The formalization dilemma in the governance of the public sciences. Minerva, Vol. 53, No. 1, pp. 1 — 19. Young S. P. (2011). Evidence of democracy? The relationship between evidence-based policy and democratic government. Journal of Public Administration and Policy Research, Vol. 3, No. 1, pp. 19—27. Zhang В., Wang X. (2017). Empirical study on influence of university-industry collaboration on research performance and moderating effect of social capital: Evidence from engineering academics in China. Scientometrics, Vol. 113, No. 1, pp. 257—277. Ziman J. (1991). Academic science as a system of markets. Higher Education Quarterly, Vol. 45, No. 1, pp. 41-61. Zuniga-Vicente J. Ä., Alonso-Borrego C., Forcadell F. J., Galan J. I. (2014). Assessing the effect of public subsidies on firm R&D investment: A survey. Journal of Economic Surveys, Vol. 28, No. 1, pp. 36 — 67.
|
Новые книги и журналы
Популярные книги и учебники
- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник
- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник
- Капитал - Карл Маркс
- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник
- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник
- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник
- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник
- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник
- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник
- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс
Популярные рефераты
- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги
- Макроэкономическая политика: основные модели
- Краткосрочная финансовая политика предприятия
- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма
- История развития кредитной системы в России
- Коммерческие банки и их функции
- Лизинг
- Малые предприятия
- Классификация счетов по экономическому содержанию
- Кризис отечественной экономики
- История развития банковской системы в России
- Маржинализм и теория предельной полезности
- Иностранные инвестиции
- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию
- Безработица в России
- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка
Популярные лекции
- Шпаргалки по бухгалтерскому учету
- Шпаргалки по экономике предприятия
- Аудиолекции по экономике
- Шпаргалки по финансовому менеджменту
- Шпаргалки по мировой экономике
- Шпаргалки по аудиту
- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.
- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит
- Шпаргалки по финансам
- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности
- Шпаргалки по финансам и кредиту
- Шпаргалки по ценообразованию

